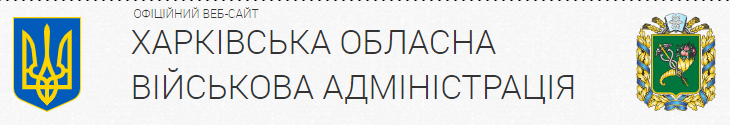Восставшие из дома-саркофага
Как режиссеру Андрею Лебедю удалось превратить текст пьесы с устойчивой репутацией основы «долгого хмурого спектакля» в оптимальный для сценического восприятия современного зрителя формат — чуть больше часа без антракта. При этом, сокращая пьесу и удалив из нее трех незначительных персонажей, режиссер ухитрился «не выплеснуть младенца вместе с водой».
Магическая среда спектакля (удачнейшее решение сценографии Аркадия Чадова последних лет) просто затягивает взгляд в подернутые траурным крепом зеркала. В них тут и там множатся огни свечей. Тема смерти постоянно напоминает о себе. Об нее спотыкаются, бьются, через нее, как через преграду, устремляются к счастью — в центре сцены прямоугольный деревянный ящик. При откидывании резная крышка дома-саркофага (в нем в угоду трауру по отцу заживо похоронены дочери) просеивает на пол свет витража католического храма… Дом-твердыня фанатических принципов Бернарды Альбы! Неприступный замок, под окнами которого, впрочем, по ночам появляется такой желанный для всех его обитательниц мужчина Пеппе Римлянин. Эту чисто символическую в спектакле фигуру воплощает Дмитрий Герасимчук. Образ его заявлен уже в прологе, когда обнаженный юноша совершенно неожиданно появляется из сундука, в полутьме надевая на себя маску быка. Но вот следом за выскользнувшим из «ящика Пандоры» Мужчиной еще более неожиданно появляется Женщина. В исполнении Людмилы Удачиной она — исключительного обобщения образ поэтики Ф.-Г. Лорки. Голая спина полуобвита траурной мантильей, делающей плоть тем более привлекательной. Свой гневный монолог об умершем наконец-то хозяине служанка Понсия произносит с парадоксально чувственной интонацией, затягивая при этом белое тело в тугую черную одежду. Мотив облачения в траур, погребения живого в монашеской аскезе развивается на протяжении всего спектакля. Как тогда, когда Понсия буквально вобьет кричащую о своей любви к Пеппе Аделу в черную строгую рясу поверх белого платья цветущей юности… Как тогда, когда младшие дочери рода Альбы накинут на старшую хворую Ангустиас черный креп поверх подвенечного платья. К слову, отмечу минималистичные стильные костюмы Аркадия Чадова, созданные в соавторстве с актрисой Дарьей Ямпольской.
Малая сцена позволяет буквально рассмотреть, как, в частности, вспыхивают гневом первой стычки с матерью глаза красавицы Магдалены (Анна Дровлиненко). Зачем восемь лет в затворничестве шить приданое, если замуж будет уже поздно? Фактуры таких разных актрис договаривают за их персонажей: Магдалена и Амелия (Виолетта Яковлева) вписались в семейство Альбы своей исключительно «испанской» внешностью, с их удлиненными лицами, с печальными очами и темными густыми волосами… Пепельные волосы самой старшей по сюжету несчастной Ангустиас (пронзительный неврастенически трагический образ, созданный Еленой Романовой) — словно рано просыпавшийся на голову снег забвения. Мартирио — Дарья Ямпольская — вызывающе рыжая в своей семье, уязвленная хромотой и тайно влюбленная в Пеппе. Именно страдающая от ревности Мартирио приведет свою счастливую сестру Аделу к самоубийству, жестоко пошутив: Пеппе, мол, погиб. Но вот беда — сатанинский смех Мартирио похож на стон изболевшейся души, и месть не приносит ей самой облегчения. Наконец, лучезарная Адела. Юлия Ермакова разумно избежала даже тени штампа в изображении «луча света в темном царстве». Адела Ермаковой еще живая в этом склепе надежд и утраченной молодости, она слишком прямодушная, чтобы по-пуритански скрывать свои чувства, даже если они кощунственны. В конце концов, это именно с Аделой состоится идейная «коррида» у Альбы, смертельно ранены в которой будут как «тореро», так и «бык». Узнав, что в их селении прижившая ребенка до замужества девушка убила его и закопала под камнем, Альба вскрикивает с мистериальным ужасом, а ее руки судорожно впиваются в подлокотники готического кресла. Эту сцену Ольга Двойченкова играет с такой силой материнского предчувствия, а режиссером тут сделан такой эмоционально-смысловой акцент, что просто невозможно не содрогнуться от предчувствия страшной развязки и в собственном доме Бернарды. Как аукнется, так и откликнется — точь-в-точь как композиционный прием с вокзальными сценами в романе Толстого «Анна Каренина». Когда Адела только еще сбрасывает со своих ног маленькие тугие черные ботинки, в ее босоногости — уже вызов, уже протест! В ночной сцене в одной нижней сорочке, с растрепавшимися волосами она выглядит грешным и счастливым ангелом. Ангелом, который в самом скором времени, увы, взлетит над уровнем бренной земли, так что только пенный подол пресловутого свадебного платья закачается во фрамуге слишком поздно распахнутых матерью дверей! Ю. Ермакова убедительно противопоставила мертвящей воле Альбы певучую юность Аделы, которая, говоря словами А. Блока, сожгла ее…
Единственное, что можно высказать А. Лебедю в качестве пожелания — впредь не злоупотреблять натуралистическими подзвучками скрипа, лязга дверей и криков, доносящихся из «внешнего мира» — этот буквализм мертвой фонограммы диссонирует с живой акустической средой голосов актрис, рождающих сильные живые эмоции, в то время как музыка и голоса фламенко действительно работают на тему.
О самой же эмоциональной палитре драматического спектакля по драме испанского поэта надо бы писать стихами — она того заслуживает! Не то что давно, а никогда еще не видела молодых актрис театра в материале такого исповедального характера, такой силы проживания. Каждая из них — враг друг другу, но каждую в общем-то по-своему жаль. Органика голосов актрис спектакля в самых напряженных децибелах могла поспорить только с концентрацией их взглядов-поединков в камерном сценическом пространстве.
После бенефисной роли мадам Розы, сыгранной О. Двойченковой полгода назад, казалось, неизбежен и извинителен был бы определенный «выдох» — но не тут-то было! Юбилейный театральный сезон театра щедр на заслуженные премьеры-бенефисы для его блестящей актрисы. Вариации мощной материнской и женской темы у Ольги Двойченковой, оказалось, неисчерпаемы. Ее Альба волевая, гордая, хитрая и практичная, но тем страшнее «добивает» она эмоционального зрителя в финале. После самоубийства дочери донна Двойченковой, по-видимому, переживает апоплексический удар. Она становится жалкой; ее речь клокочет в горле, почти утрачивая членораздельность; в каком-то внутреннем ознобе некогда повелительница чужих судеб по-звериному сворачивается клубком на сундуке-гробу, чтобы встретить закат своей жизни в окружении дочерей-плакальщиц…
На протяжении всего спектакля безмолвное пространство сцены подыгрывает актерам, и «игра» эта, поверьте, заслуживает «Оскара». Высокие дубовые двери камерного зала одного из старейших в нашем городе театрального здания чудесно приняли на себя «роль» столетних дверей в доме‑монастыре Альбы. Пространство за дверями, где-то там, на желанной для всех героинь воле, завораживало воображение, театральное доверие подогревал инфернальный, в клубах дыма, свет с лестницы. И как-то забывалось, что это та самая лестница, по которой мы сами поднимались из фойе на экспериментальную сцену. Секрет же того, почему в «Доме Бернарды Альбы» зрительные ряды расположены принципиально иначе, чем в постановке «Вся жизнь впереди» А. Ковшуна, прост. Не знаю, кому первому пришло в голову решение спектакля через образ пяти зашторенных тяжелыми черными драпировками окон малой сцены им. А. Беляцкого, но решение это беспроигрышное и гениальное! Окна — будто комнаты-ниши каждой из пяти девушек. В финале же метафизический исход из юдоли земных страданий дочерей Альбы и ее самой заставляет пережить сильнейшее театральное потрясение: синхронно отдергивая каждая свой полог, отдирая «заглушки» с высоких окон своих душ и растворяя рамы, в потоках заходящего с улицы воздуха и музыки фламенко вечно молодые они стоят на фоне темнеющего над городом неба…





 Випуск № 50 (809) від 25.04.2024
Випуск № 50 (809) від 25.04.2024